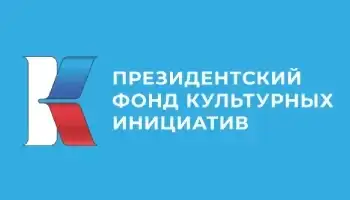Диспут о любви
Иван Алексеевич Новиков (1877-1959), самобытный писатель, сохранивший свою творческую индивидуальность вопреки всем «классовым проработкам» вплоть до начала 1930-х годов, но в конце концов сдавший свои позиции. Под воздействием суровой критики», заклеймившей его как «эпигона дворянской литературы», пестующего интерес к «патологическим «подпольным» чувствованиям» своих персонажей, окрашивающего образы в «мистико-символистские тона», он вынужден был отказаться от своего пути в литературе и вскоре переключился на литературоведение и историко-биографический жанр. В 30-е годы Новиков становится автором популярной дилогии «Пушкин на юге» и &aquo; Пушкин в Михайловском», в 40-е и 50-е занимается переводами «Слова о полку Игореве» и бурятского эпоса. Хотя основная сфера его интересов — стихи и проза, начинал он как драматург. Первые его опыты — пьесы «В пути» (1900), »Около жизни« (1903), одноактный этюд «Апрель» (1904) — не заинтересовали театры. И неудивительно. Они строились по отработанным схемам, отличались вторичностью и декларативностью.
Но уже пьеса «Любовь на земле» (1911) дала понять, что Новиков вырос как драматург, обрел свое лицо. Отныне каждое драматическое произведение писателя прочитывалось современниками особенно внимательно и вызывало острую полемику. Эта пьеса, по-видимому, была особенно дорога автору, так как он дважды вынес ее на суд читателя: первый раз — отдельным изданием 1911 года, второй — журнальным, накануне рокового слома 1917 года. Помимо проблем, напрямую связанных с частным существованием человека, его нравственным самоопределением, писатель размышляет в ней о судьбах России, ее сути, ее предназначении. Н. Эфрос считал, что Новиков «светом большой идеи» осветил «узорочную пестрядь жизни», привел «в стройную систему сутолоку и сумятицу ее явлений».
Имение Свешневых, в котором происходит действие, расположено в средней полосе России. Сам хозяин дома, имеющий золотое сердце, честную незамутненную душу, полнейший бессребреник Алексей Григорьевич Свешнев, своеобразная вариация Алексея, человека Божьего, говорит: «Странный у нас, безалаберный дом <...>. В нем сочетание как бы непримиримых вещей: страсти и тишины, простоты, а подчас такой сложности...» Автор делает его человеком, ближе всего стоящим к народу, воплощенному в образе горничной Маши, девушки, которую он любит. И другой герой, Андрей, верит в гармоничность естественного человека и мира. «Слышишь, как тихо? — обращается он к своей невесте. — Видишь, как мирно, какой земной, ясный закат? Разве и в человеке может что быть дурным — что бы в нем ни было, когда вокруг так?»
Мирному мужскому миру в этой пьесе противостоит непостижимость и своеволие мира женского. Контраст тишины и напряжения, благостности и безудержной горячности заключен в образах брата и сестры Свешневых. Тридцативосьмилетняя Наталья Григорьевна, хотя и молит о ниспослании ей мира, осенней благодати, готова «образумиться», но в то же время ее не случайно преследует видение потухающего темной ночью степного костра, выбрасывающего «языки острого пламени», словно сводимого «предсмертной судорогой». «Судорожность» сжигающего ее изнутри огня видна во всем: в стремительной походке, в блеске светлых глаз, в быстроте движений, в торопливости речи, беспрестанно перескакивающей с одной мысли на другую, с одного предмета на другой...
Она по-своему жестока, готова мучить влюбленных в нее мужчин, признается: «мне не жаль ни цветов, ни людей, ни жуков <...>». А цветы, тем не менее, становятся постоянным атрибутом ее образа. Вообще вся пьеса насквозь пропитана ароматом цветов, упоминанием об их буйстве, великолепии, пышности. И интерес Натальи Григорьевны к художнику Ставищеву возникает, когда она увидела его картину «Дон Жуан», на которой были изображены только цветы. Но парадокс в том, что Ставищев является вестником не земной, а небесной любви, т. е. любви, лишенной страстей, не знающей трагедий, измен и пр. Он подчеркивает: в его картинах отсутствует желтый цвет, цвет пыльцы, означающий готовность к оплодотворению. Он напоминает Наталье Григорьевне, что в названии его картины было пропущено слово «северный». Итак, «Северный Дон Жуан», что значит — противник чувственной любви. Однако поиски истинной сущности любви не были самоцелью драматурга. Его не меньше волновала проблема русского национального характера, которая мощно заявила о себе в литературе 1910-х годов. Не случайно пьеса начинается со спора постоянного обитателя России помещика Свешнева и его соседа Дессаля, предпочитающего жить за границей. Если первый дорожит тем, что его предки родились, вырастали и умирали среди «немудреных лесков, скатов, оврагов, среди тихой, вправду дремлющей зелени», то второму необходимы скитания, его раздражает тишина, неумолчный звон колоколов, разлитая в природе печаль. Это не мешает ему удивляться происходящему на родине, куда он ненадолго вернулся. «Россия, — размышляет он, — пучина, воронка… с головокружительным этаким… устремлением вглубь. <...> Одновременно: и средние века, да какие там средние — дичь, древность, язычество! — а тут же такие воистину вершины, колющие иглами небо». Россией как непостижимым феноменом восторгается Европа, от нее ждет чудес, но и опасается их. Россия таит в себе драгоценные клады, рождает новые идеи, но и рискует погубить, соблазнить, сбить человечество с истинного пути.
Темы любви и русского национального характера сходятся в образе Натальи Григорьевны, этой мятежной, самое себя не познавшей субстанции. Она хочет быть &aquo; вольной» в своих чувствах, не желает никому отдавать в них отчета и провозглашает главной человеческой заслугой расточительность, щедрость, которые ей в десятки раз милее скупости чувств, понимаемой ею как «порок». И хотя свои порывы она сравнивает с ветром из тропиков, с преступлением, в них ей чудится жизнь, которую она и провозглашает Божьим чудом. Эстафету горячности подхватывает дочь Наталии Григорьевны Тоня, оказывающаяся еще более экстатической натурой, чем ее мать. Автор рисует столкновение двух женщин в любовном конфликте, делая этот конфликт вариантом дискуссии о сути любви земной и небесной. Герои читают и обсуждают «Пир» Платона, высказываясь по поводу доводов участников платоновского диалога. Если Наталья Григорьевна воплощает земную страсть, то Тоня — символизирует переход любви в божественные небесные сферы, любви, способной преобразовать земное несовершенство. Спор о любви между матерью и дочерью подхвачен Ставищевым и Андреем. Они рассуждают о возможностях чувства, которое или должно «разбить границы души» и разлить в мире «одну великую целомудренную во всем разнообразии и красоте любовь» (Ставищев), или принять этот мир «со страданиями, с кровью, с проклятиями самой любви», руководствуясь «одним законом: я беру все и отдаю без обмана — все» (Андрей). И Андрей начинает справедливо подозревать Ставищева в «узурпации» верховной власти в мире, в обожествлении себя, в нелепой самонадеянности и желании стать «сверхчеловеком», пророком, провозвестником новой религии. «… в том-то и спор у нас: я ли мир создаю, я ли в нем божество, или только вкраплен я в мир, только росинка в цветке, не больше». В этих спорах нашли отражение мысли автора, который, хотя и восторгается «полетом», обещанным в первом типе всеобъемлющей любви, но в большей степени хочет «услышать» деревья, увидеть «земные, малые звезды» на небе, ничуть не похожие на «те громады, что в высоте, чуждые, незнакомые нам». Наталья Григорьевна отвергает любовь в духе вездесущего и всепроникающего платоновского Эроса, который «простирает» свою власть «надо всем, над вещами божескими и человеческими». Ей ближе оказывается другая сторона платоновского учения, которую она «приспосабливает» к потребностям своей души, ощущая как неизбывную тоску по своей половине. В конце концов она уезжает с приехавшим за ней «русским французом» Дессалем, не загадывая, что будет, бросаясь навстречу охватившему ее чувству. «Безумная жизнь — безумный конец! <...> И не мечтать, а целую ночь мчаться в снегу. <...> И чтобы ветер сзади хрипел! И алмазы… нет, пушистые белые звезды, цветы сегодня с небес».
Новиков создавал некую русскую версию платоновского «Пира». Это уловил обозреватель «Русского слова», по мнению которого писатель, несомненно, думал «о многообразии преломления лучей великой единой любви в многогранной призме человеческих сердец». Но, оттолкнувшись от идей древнегреческого философа, драматург хочет показать, что теперь мы все же «другие». «Тогда и боль, и сама тоска были здоровые <...>», — поясняет Наталья Григорьевна. Тоска же новейшего времени, возможно, питается не только безнадежностью поиска своей второй половины, но и проблематичностью осуществления той любви, о которой говорил В. Соловьев в трактате «Смысл любви». О любви, означающей «восстановление образа Божия в материальном мире», можно только мечтать.
Новиков хотел рассказать о треволнениях и переживаниях людей начала XX столетия, тронутых адом сомнения, потерявших себя на пути жизни. В итоге вся сложная амплитуда «горения-свечения» в этой пьесе преобразуется в конце ее в поэтику ледяного огня, который будет сопровождать бегство Натальи Григорьевны из родного дома. Очевидна символическая структура, которая образует мифопоэтический пласт драмы и которую, как выражается по другому поводу слуга Ефим, «словами сказать никак невозможно». «Любовь на земле» находится и в кругу чеховских новаций. Об этом свидетельствует образ сада, «обнимающего дом со всех сторон». Сад, правда, не вишневый, а грушевый и яблоневый. О чеховских же вишнях напоминают ягоды, созревшие поздней осенью. Случайно раздавленные, они станут похожи на кровь, пусть «нестрашную», но явно выполняющую функцию чеховского ружья: нас предупреждают о том, что вскоре разыграется драма… даже трагедия, какой и становится убийство Маши (из ревности ее зарубил топором деревенский ухажер Степан).
Есть сходство у новиковских персонажей с чеховскими. Критик «Новостей сезона» высказал мнение, что Наталья Григорьевна — это «современная Раневская». Действительно, можно вспомнить уточнение Чехова, что Раневскую может остановить только смерть, что это «не женщина — петарда». Почти совсем чеховским Фирсом выглядит Ефим, которого критики приняли как старого знакомого и дружно похвалили актера г. Неронова за воплощение на сцене «типичной фигуры древнего слуги», не заметив, правда, что Ефим в пьесе выполняет иную функцию, чем Фирс: оставаясь в заброшенном доме вместе со своим барином, он символизирует, скорее, единение с народной стихией мудрости и терпения, а не разрушение всего уклада жизни. Алексей Григорьевич говорит: «Ты, Ефим, как этот сад, как равнина. Тебе, главное, и понимать-то ничего не надобно: все это только ты сам», или: «В тебя верю, Ефим». Кстати, именно эти фразы были восприняты (и совершенно справедливо) как «лишние», напрасно «проясняющие» смысл того, что и так достаточно понятно. Но Новиков как бы не доверяет тем элементам, которые призваны образовать подтекст его пьесы, и выводит на «поверхность», оформляет в словах смысловую парадигму произведения. Поэтому он заставляет произнести Алексея Григорьевича высокопарное: «Но отчего же я верю в тебя, родная страна?» Прозвучавший под занавес риторический вопрос разрушает с большим трудом найденное настроение… Подводное течение пьесы связано с музыкальным лейтмотивом — романсом Грига «Ich liebe dich in Zeit und Ewigzeit», слова которого герои повторяют либо в задумчивости, либо беря несколько тактов на фортепьяно. Новиков прибегает и к прямому дублированию чеховских открытий. Но если у Чехова, к примеру, о происхождении звука лопнувшей струны можно только гадать, то Новиков подчеркивав его конкретность: «Вдруг раздается громкий надрывный звук. Это лопается струна в старом фортепьяно». И этот, как говорится в одной из реплик, «жуткий» звук рождает растерянность и смятение на лицах участников действа.
Смена природных явлений также призвана воплотить внутреннее состояние действующих лиц пьесы. Если первые три действия идут под аккомпанемент знойных красок полыхающей осени, то доминантой последнего действия становятся густые хлопья падающего снега, знаменующие собой воцарение мертвенной тишины, простершейся над Россией. И Алексей Григорьевич, которому суждено коротать оставшиеся дни в своей усадьбе в компании со старым слугой, и «русская долгая ночь» со снегопадом вырастают в символ заметаемой снегом страны. Здесь важна ремарка: «Границы комнаты затерялись, слились со всем огромным пространством вне дома — с Россией». Но эта Россия — только притаившаяся, притихшая, замершая в ожидании. Последним звуком, слышимым со сцены, будет далекий петушиный крик, предвещающий новый день, а значит, и пробуждение...
В отличие от Чехова Новиков насыщает текст ремарок экспрессивными уточнениями: «В тишине слышно: дятел стучит в саду по яблоням, крепко, методически, точно тишину приколачивает». Под его пером ремарки становятся не только служебными пояснениями, не только сигналами настроения, состояния, а превращаются в своего рода медитативные размышления, подчеркивающие символичность происходящего. Настойчиво варьируется указание, что дом Свешневых «сквозной», «как открытая чья-то душа», что все вокруг «на десятки верст залито ясной тишиной ранней осени».
Некоторые ремарки начинают напоминать даже лирические отступления в гоголевском духе, когда само описываемое явление рождает в сознании автора цепь ассоциаций. И возникает целая картина с самостоятельно живущими фигурами, погруженными в собственное «независимое» бытие. Они будто и не призваны быть на сцене, а предназначены для того, чтобы убедить в чем-то самого писателя (а заодно и читателя). Такова «разветвленная» ремарка в конце первого действия, цель которой напитать атмосферу светом, напомнить о возможности мировой гармонии: «Между тем приезжие сошли с экипажа: если можно, пусть будут видны и лошади, и экипаж: это так хорошо, когда к деревенскому дому, открытому настежь, сквозному, гостеприимному, к дому, где ждут и к приезду гостей готовятся, погожим, светлым деньком подкатит бодрая тройка, и кучер у самых ступенек, — едва не задев нестрашные морды доморощенных львов у подъезда, сам нестрашный русский лев, с кудрями под шапкой с фазаньим пером, с послушливой гривой, смоченной квасом, в жилетке и желтой рубахе, с рукавами, еще полными дорожного ветра, — осадит коней, и вдруг со всех концов двора устремятся с шумом, подобным плеску низкой волны по песку, дворовые люди: оживление, праздник, бег, толкотня, помощь, приветствия».
Будто опомнившись, автор в следующей фразе возвращается в театральную реальность и указывает: «Пусть все это будет слышно и видно сквозь окна и коридор», прекрасно, наверное, осознавая, что невозможно на сцене дать представление о рукавах, «полных дорожного ( — М. М.) ветра», показать, как кучер «осаживает» лошадей1. Так же вряд ли возможно показать на сцене, как у героини становятся прозрачней глаза, или чувства, которые переживает «русская девушка, оставаясь одна в лесу, когда изменчивые и разноречивые волнения поднимаются в душе и ходят, как ветры в степи, завивая воздушные смерчи». В указанных примерах очевидно намерение автора предельно расширить рамки пьесы, вывести ее на простор жизни, подчеркнуть типичность переживаний героев. Но в то же время ясно, что они рассчитаны не на показ, а на возбуждение фантазии постановщика, на его «домысливание» ситуации и психологии героев, на получение импульса для воссоздания соответствующей атмосферы. Ремарки Новикова нередко превращаются в «подсказки» режиссеру, становятся фрагментами режиссерской экспликации. Такова предельно пространная ремарка перед началом третьего кульминационного действия пьесы, в которой оказывается важна не точность воспроизведения деталей, а то состояние души героев, которое должно быть передано зрителю: «… беспокойство в доме. Это чувствуется по неуловимым мелочам: просторная комната кажется еще просторнее, как всегда бывает, когда в доме нет того ровного дыхания жизни, которым была заткана пустота, этого неслышимого почти, но ощутимого явственно вздымания и опускания душевной стихии, общей всем, связующей обитателей в нечто целое: беспокойство в бабочках, бьющихся в окна, напряжение в звенящей фразе григовского романса <...>. Чудится за окнами холодный вечер — не соединяющий, не сливающий, а обнажающий предметы, разъединяющий их».
Показательно использование возвратных глаголов, которые лишены определенности, а подчеркивают призрачность, кажимость, трепетность происходящего. Не обозначено время действия, т. е. только должно возникать ощущение вечера, а не сам вечер. Главное — тревога, беспокойство, напряжение. Главное — дать представление о «душевной стихии», которая изменилась за те часы, что прошли между вторым и третьим действием. Поэтому автор стремится приковать внимание к душам героев: «… что-то прояснилось в них; все влажное, мягкое в душе стало или становится четким узором, все крепнущим, как при первом заморозке под утро; сама любовь колет как иглы. И если мгновенно изменится рисунок, в этом острая боль». Трудность передачи этого на сцене сознает автор, но он настаивает на том, что «все это надо дать почувствовать на театре». Но далее Новиков еще более усложняет задачу постановщика, признаваясь, что требует изображения того, что «нельзя показать реально». На самом деле это — внимание к происходящему с героями до поднятия занавеса, это передача непрерывности течения жизни, которая не прекращается и не должна зависеть от театральных условностей. Новиков явно стремится к реорганизации сценического действа, которое должно содержать как ядро зародыша все будущие возможности, а также таить в себе в «свернутом» виде генетическую память о прошлом. Он пытается дать понять суть своих ожиданий от театра, приводя сравнение с «послегрозьем»: «… грозу можно угадать, откинув портьеры окна, и тогда, когда она миновала: и по бегущим дымным тучам, и по освеженному вольному ветру <...>». Новиков ждет от театра воспроизведения «предсобытийности» или «послесобытийности», «растворяя», «истаивая» сами события. Это можно сравнить со звуком аккорда, сохраняющимся в воздухе и после того, как он был взят. Драматург твердо заявляет: «Всем этим должен ярко дохнуть со сцены театр». Постановка пьесы в московском театре Незлобина была воспринята далеко не однозначно. В целом ее оценили как полууспех-полупровал. Из рецензии в рецензию кочевали дотошные описания из менения поведения публики от действия к действию: от восторженного — к настороженному и, наконец, негодующему. Писали, что интересно было вначале, когда осеннее золото кленов и берез всколыхнуло «чеховские настроения», но после бесконечных разглагольствований и произнесений афоризмов в зрительный зал «начала вползать скука». Причину такого результата видели и в недостаточном мастерстве драматурга, и в непонимании общего замысла пьесы режиссером и актерами. Рецензента «Московских ведомостей» привело в негодование отсутствие общественного содержания в пьесе. На протяжении четырех действий все разводят «любовную канитель», занимаются исключительно выяснением: «любит — не любит». Он припечатал героев определением: «все они чем-то ушиблены по голове», назвал их нудными, фальшивыми, пустыми людьми. Претензии критиков вызвала также неопределенность авторской позиции. Им хотелось ясности, отчетливости, неопровержимости доказательств правоты одного из героев. Всеобщее недоумение выразил Н. Эфрос, написавший, что, с одной стороны, выходит, что «любовь — сила отрицательная, губительная, несущая <...> горе, слезы, ужас, смерть», а с другой, что она «сила благая». И никто не заметил, что это было тоже своеобразным продолжением чеховских заветов: не становиться определенно на чью-либо сторону, а показывать правоту и неправоту каждого, ставить, а не разрешать проблему.
В итоге рецензенты «простили» Новикову чеховские ноты (в этом духе: «ажурно, в дымчатых тонах» — трактовали даже динамичный, порывистый характер Натальи Григорьевны), а вот «дидактичность» символизма на сцене была встречена ими в штыки. Ее или отбрасывали (неважна «сложная и утонченная психология автора», его «синтез» любви земной и надземной, а важна «осенняя грусть»), или принимали как «техническую неопытность», которую можно исправить. Пожалуй, только один критик решил, что символическое содержание могло найти соответствующий сценический язык, но этого не произошло по вине автора, который слишком «поспешил» и дал «грубый черновик, тетрадь эскизов», вместо глубины постижения явления. По мнению театральных критиков, «вина» автора была «усугублена» исполнителями. Было сделано одно исключение. Несмотря на массу замечаний, которые вызвала фигура Натальи Григорьевны, именно исполнение этой роли г. Рощиной-Инсаровой было признано самым убедительным. В ее игре находили и «нервный подъем», и «такт», и «изящество». Отдельные критики заметили, что эти возможности были уже заложены в роли, поскольку героиня и задумывалась как лишенная «демонизма», «доцветающая», «милая, изящная душой» женщина.
И все же одна рецензия должна была смягчить тяжелые для ангорского самолюбия последствия, которые повлекла за собой не вполне удачная постановка. Ее автор предлагал зрителю не «судить» драматурга за художественные просчеты, а вглядеться в себя, почувствовать то «нужное и ценное», что автору удалось разбудить в душе человека. А такое стало возможным потому, что автор избрал нужное направление, он понял, что «весь наш пестрый и хлопотливый день — это <...> не самое жизнь, а промежутки ее, неизбежные и нудные, а жизнь, настоящая и подлинная, — это единственно там, у наших огней, зажженных перед любовью», она там, где говорят и мечтают о любви, рвутся к ней и ждут ее, даже осознавая неосуществимость этой мечты. И критик предложил не «рассуждать» о достоинствах и недостатках пьесы и автора, а идти и смотреть спектакль. Такого совета не мог уже дать критик, посмотревший постановку следующей пьесы Новикова «Горсть пепла» в Московском Драматическом театре в ноябре 1916 г… И хотя к этой пьесе долгое время сохранялся «повышенный интерес», приговор критиков был почти единодушным: неудача. И очень обидная при том, что новое произведение драматурга явно отличалось и большим мастерством, и большей проблемностью… Драма уже не была прямолинейно декларативной, а представляла собой «сложное словесное кружево», которое буквально рвалось, трещало по швам в «реальной грубости словесного воплощения» на сцене. Как писала газета «Утро России», «нежная и хрупкая лирическая драма» была попросту «изуродована» режиссером и актерами.
Эта пьеса Новикова оказалась столь новаторской, что породила даже вопрос: «Можно ли так писать, одних она стала «невозможным», «ничтожным», демонстрирующим «самомнение» автора, «несценичным, мертво-скучным» произведением, для других — великолепным5, «значительным и глубоким» созданием.
Наиболее последовательно развил последнюю точку зрения А. Койранский, указавший, что после Чехова перед театром встали новые и труднейшие задачи: надо учиться по-новому овладевать зрительным залом, концентрировать внимание публики не на словах и ударных моментах сюжета, а на «шорохах, паузах, недоговоренностях действительной жизни», чему должны помогать и «освещение» сцены, и особая «расстановка на ней предметов». Умение донести «голос автора» — вот что отныне определяет успех или неуспех постановки. Но при всей пастельности тонов и в этой пьесе Новикова чувствовалась тезисностъ, жесткая заданность конструкции. Недаром и здесь упоминалось о Вечной женственности и неоплатониках. Можно даже предположить, что Новиков в ней реализовал возможность иного финала предшествующей драмы, а именно воссоединение в платоническом браке Ставищева и Натальи и задался вопросом, а как бы в этом случае развивались события. На первом плане «Горсти пепла» именно такая пара: Григорий Иванович Страхов, чающий просветления жизни через «белый», целомудренный брак, и его жена Екатерина Борисовна, ради любви земной и страстной отвергающая высоты «горней чистоты». И другие герои пьесы, как и прежде, воплощают иные возможные грани и градации любовного чувства: от не знающего сомнения плотского влечения юного тела (Ксения) до сознательного нежелания вступать на «скользкий» путь земных искушений (Татьяна). Новиков опять решил дать Филию, Агапе, Сторге и Эрос в различных сочетаниях и преломлениях. Этот «избыток содержания», «запутанный узел» человеческих взаимоотношений с трудом поддавался драматургическому оформлению. Пьеса как бы застыла на перепутье «модных веяний» и бытовой драматургии. В чтении она еще производила «стройное и поэтическое впечатление», захватывала «прелестью описаний и нежной лирикой авторских отступлений», но Новиков сделал «власть ремарки» всеобъемлющей, не заметив при этом, что его ремарки по сути «невоплотимы» на сцене. Таково было мнение обозревателя «Утра России», который, впрочем, себя тут же поправил, чуткого режиссера», каковым не явился постановщик г. Загаров. Зато ремарки, очевидно, вдохновили художника (г. Колупаев) на создание чудесных декораций, особенно восхитительных в 3-м действии, воспроизводящем атмосферу жаркой июльской ночи. То, что самым удачным было признано это действие, — неудивительно. Оно действительно самое поэтичное, полное неясных звуков, тревоги, настороженной тишины. Реплики действующих лиц содержат намеки на какие-то видения, плывущие между небом и землей, возникают мечты о несбывшемся, далеком… И разговоры, и фигуры шепчущихся окутаны тайной… А взгляд зрителя как бы взмывает ввысь и обозревает стоящие под луной белые церкви, спящие деревни, «реки, как холсты, шитые серебром», и в этих реках — плавающих серебряных рыб. Контрапунктом к этой картине звучит произнесенный невидимым зрителю действующим лицом пьесы монолог: «Когда на широком лугу копны душистого сена заполняют простор, таясь одна за другой, а лунная ночь ткет между ними свой матовый свет, и стоит тишина над миром, тогда чудится, нет грани между землей и иными мирами; все одна беспредельная фантастическая даль. Полный месяц вверху, плывущий под звездами, внизу — усеянный копнами луг и люди; тишина, ароматная свежим, своим, земным ароматом, глубокая до краев зыбким матовым серебром; нарушает ее очень изредка только неясный между сухих стеблей шорох, Бог знает кем порождаемый, да слышны издалека время от времени разнообразные звуки снявшихся с места на иное кочевье цыган». Эти слова одного из персонажей пьесы были истолкованы как ремарка, вложенная в уста героя. Но, скорее, они выполняют ту же функцию символического «зачина», что и пьеса Константина Треплева в начале «Чайки», переводя все происходящее в некий космический, надмирный план! Это иное, несиюминутное, а «всеобщее» исчисление времени должно было ощущаться в спектакле.
Поэтому зададимся вопросом, так ли уж «невоплотимы» были, как утверждалось, новиковские ремарки? Конечно, если читать «дословно», то сделать так, чтобы обрывки письма падали на иол «как белая сирень», как «листки давней, захотевшей воскреснуть любви», и так же дрогнули бы «и оросили пол возле кресла, на которое опустился потрясенный в мгновение человек, его частые и тяжелые слезы», невозможно. Но разве непонятно, что имел в виду автор, чего он добивался? Актер должен был передать состояние надрыва, когда слезы наворачиваются на глаза, но усилием воли человек приостанавливает готовый хлынуть поток. А ремарка в четвертом действии: «… такие лица бывают, когда все напряжено в душе, страсти прояснены до степени мысли, а мысли отточены, нервны и, как взнузданный конь, послушны одной направляющей воле: зоркой, гибкой и властной одновременно» — предполагала создание на сцене особого трагического напряжения, когда на кон поставлена вся жизнь, когда наступило время последних решений и герои очутились перед бездной.
Новиков приближал эру свободы актерской игры, вместо отрепетированных жестов и отработанных приемов предлагал поиск, надеялся на привлекательность для исполнителей импровизации. Именно это содержалось в ремарке, открывающей третье действие: «… артистки могут сидеть и стоять, и прилечь, как им подскажется в этот момент: некоторая зыбкость, вольготность уклониться в исполнении в зависимости от какого-то малого, завершающего штриха, который кладется в самый последний момент, эта свобода в исполнении сцены должна дать легкость рисунку, и было бы хорошо, если бы каждая из исполнительниц давала живое свое этого мгновения (курсив автора. — М. М.), отгадывая чутьем общий аккорд, и тогда один вечер театра не походил бы на другой, как и вообще это не походило бы вовсе на театр только заученных слов».
Не только форма, но и проблематика пьесы оказалась «не по зубам» многим критикам. Отсюда определения: «туманные» идеи, «мудрствование «от лукавого». Излишне прямолинейно трактовал содержание рецензент «Русского слова», уверяя, что автор возвеличивает «горячую, вещую и таинственную земную любовь», которой только и живы люди. А все «не любящие, не нашедшие разделенной любви» превращаются в мертвецов. Так он и прочитал последнюю сцену, в которой отчаявшуюся Екатерину Борисовну обступают многие из действующих лиц, и они кажутся ей привидениями, которых она вопрошает о смысле человеческой жизни. Но можно ли считать «мертвыми» Кирилла и Феничку, которые, соединенные взаимным чувством, устремлены в будущее? Точнее других замысел разгадала Е. Колтоновская, отметившая, что писателя по-прежнему волнует мысль о возможности «победы над смертью через целомудрие». Но на примере жизни Григория Ивановича Страхова, отвернувшегося от красоты окружающего мира для того, чтобы писать философское сочинение «Путь жизни», превратившего, по сути, душу своей жены в пепел, автор показывает, как опасно «преодоление земного» ради получения «вечной жизни», которая превращается, таким образом, всего-навсего в «бессмертный гербарий». Но, надо уточнить, что сам писатель не отвергает идею целомудрия полностью, он словами своего героя признает, что она под силу лишь подлинно великим людям, героям. Обычный человек не в состоянии выдержать это испытание.
В то же время драматург исподволь подводит к мысли, что изначальное искажение человеческой природы получает дальнейшее продолжение, развитие, «ускорение». И насильственно навязанная обычным людям ложная идея превращает их жизнь в пепелище, ломает их судьбы, коверкает их характеры. И ничего уже не исправить, не изменить. И хотя Екатерина Борисовна, отвергнутая мужем ради его служения великой цели, возвращается под родной кров в надежде, что они, наконец, обретут друг друга, и, казалось бы, все еще может устроится, — ничего подобного не происходит. Они расходятся в разные стороны, уже навеки (Григорий Иванович кончает с собой). Живая жизнь, непостижимая, своевольная, нерегламентированная, врывается в исчисленное существование Страховых и разбивает на корню и построения Григория Ивановича, и надежды Екатерины Борисовны. Она увлекается его братом, Кириллом, впадая в традиционное заблуждение влюбленных: неспособность видеть реальное положение вещей (он влюблен в юную Феничку). В Григории же Ивановиче пробуждается любовь, но, скорее, как ответное чувство на страстный призыв его юной воспитанницы, четырнадцатилетней Ксении, чья добровольная смерть обрывает и нить его жизни. Вопрос об умении и возможности любить полноценно оставался открытым. Но в пьесе были и другие «обертоны», выводящие ее за пределы обсуждения различных концепций любви. Речь идет о сближении образа Страхова с его предком декабристом, чей портрет занимает видное место в семейной галерее портретов и на сходство с которым указывает Григорию Ивановичу его жена. Как декабристы хотели «зажечь декабрьский мороз», так Григорий Иванович вознамерился создать «химеру человеческого счастья», основанную на попрании законов природы. И то и другое не могло иметь счастливого завершения. И то и другое — очень русские рецепты преображения жизни, которые созидаются в отрыве от реальности, а истоком имеют — воображение и головные теории. Так в пьесу врывалась эпоха «между двух революций». Упрек современной интеллигенции бросала Екатерина Борисовна: «… когда пришла теперь и прошла… наша недавняя и злосчастная (революция. — М. М.) и надо было бок о бок терпеть с этим самым народом, землей — скорей к сторонке: теперь революция духа, не меньше, бунт против самой природы, любви...» Русский контекст пьесы открылся Ю. Соболеву, считавшему, что все герои опалены русским исканием правды и тоской. Он выявил значимость проводимой Екатериной Борисовной параллели между «наивной «боярской» кинодрамой, которую она, живя в Италии, видела в синематографе, и событиями ее жизни в России, которые вроде бы повторяют сюжет о ловчем и подстреленной им лебедушке (его стрела по ошибке попадает в молодую княгиню, ждущую свидания с ним), но на самом деле обнажают горькую реальность российского бытия. Все происходящее, воспользовавшись словами этой героини, он интерпретировал как «русский небывалый сон». Он подчеркнул «русскость» характера Татьяны Страховой, мечтающей о монастыре, понимающей любовь как жертву, приносимую любящему, но не любимому человеку, увидел проявление русского начала в ее брате; Кирилле, который с удовольствием возится в земле, нося в себе малиновый пасхальный звон и источая запах спелых земляничных ягод, Наконец, прочитал как рожденные неизбывной жаждой русской воли («звездное небо, кибитки») чувства бунтующей женской души. Его не смутило условно-знаковое в духе русской романтической традиции появление на сцене цыганского табора, предсказывающих судьбу гадалок. Даже самую природную атмосферу пьесы (лунная ночь, стога сена) он связал с тем, что «все русские драмы неразрывно связаны с пейзажем и вырастают из него». И, наверное, он был недалек от истины, восприняв «Горсть пепла» как русскую драму напряженных духовных поисков и опаснейших искушений.
Пьеса заключала в себе и глубокий религиозный смысл. Открываемая звуками всенощной Вербной субботы она заканчивалась идущими «сверху звуками фисгармонии, похожими на монастырский орган» (несколькими явлениями раньше возникали мелодии Моцарта, которые наигрывались на фортепиано), и словами: «Двум душам напутствие и великий постриг третьей душе», — что означает прощение всем, кто оказался способен на великую любовь, и даже тем, кто «самовольно», как Григорий Иванович и Ксения, а ранее и мать Страховых, лишат себя из-за нее жизни. Но Вербное воскресенье обещает, как известно, и освобождение, и смертные муки. Такова и амплитуда колебаний героев между идейными полюсами пьесы. Пьеса провозглашала святость семьи, где «двое любящих в середине; от них тепло всем: и малым, и старым, и тем, что жит